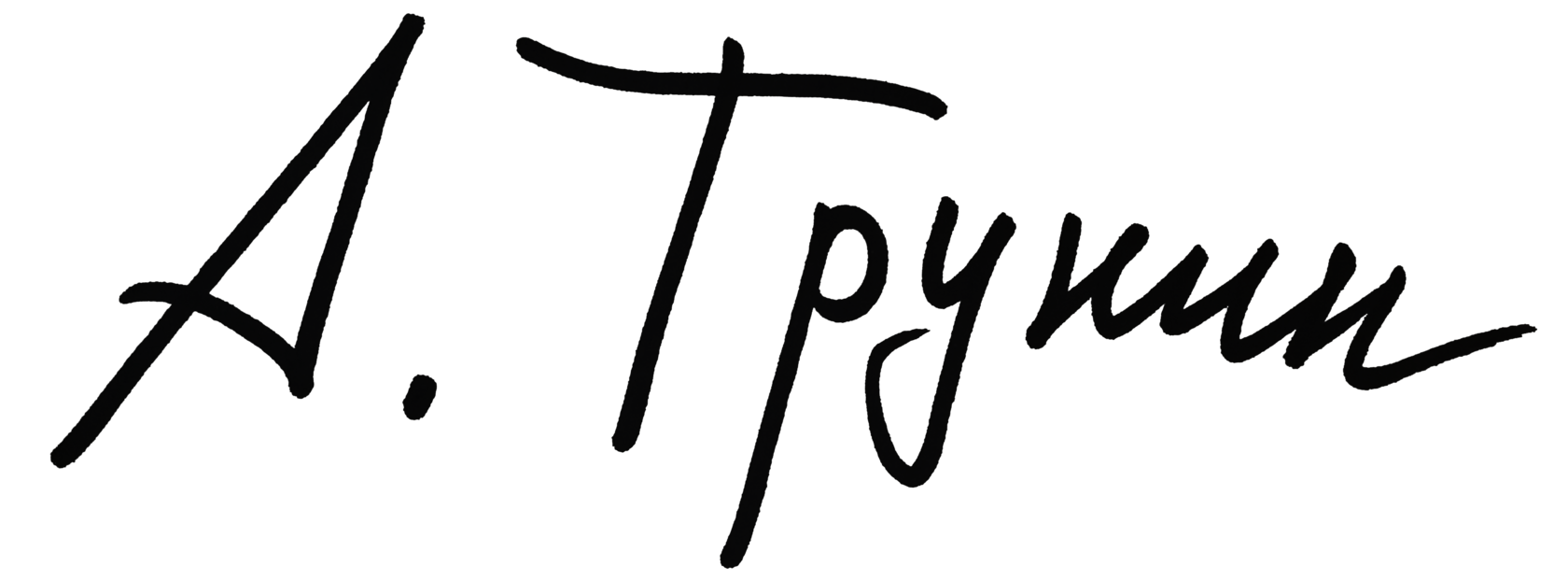ХАЛТУРА В ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ
Статья Алексея Трунина для № 1 выпуска альманаха о сакральной архитектуре и искусстве «Слово и Камень»
Первым и самым естественным определением любой плохо сделанной работы является ее неаккуратность. Это просто и всем понятно. В церковном искусстве такой ценз тоже стал основным и фактически уже единственным. «Грубое» письмо, неровный фон, негладкие лики, «кривой» орнамент и прочие огрехи свидетельствуют о некачестве, неумении, халтуре. Не нужно художественного образования, чтобы громко заявить: «Плохо! Это плохо!» Жалкие попытки художников, сделавших это «плохо», объяснить ситуацию, показывая какие-то древние фрески, ни к чему не приводят. Не умеешь?! Подвинься, дай дорогу профессионалам! Откройте любой сайт или альбом по церковному «благоукрашению», и вы увидите настоящих мастеров своего дела, поражающих совершенством технических навыков, показывающих «товар лицом». Сияющие фона, недосягаемые в мастерстве орнаменты и «мрамора», святые, изящно причесанные и очень радостные, и прочее, и прочее… Рядом с этим совершенством даже древние иконы и фрески кажутся грубыми и неумелыми. Но столь очевидные внешние достоинства приводят к очень существенному и явно не положительному результату: такая живопись не нуждается в осмыслении. В нее нельзя погрузиться, она вся на поверхности. Нутра, глубины там нет. Всё, что создает сложность и неоднозначность, вытравлено и вытравлено сознательно. Это напоминает соцреализм в основных своих представителях. Зритель освобожден от размышлений и переживаний и, следовательно, освобожден от ответственности. Зачем мне «комплексовать» перед тем, что превышает мое понимание? Мы люди хорошие, простые, а «где просто 1 там…», дальше вы знаете. (Раньше еще ссылались на бабушек, мол, «бабушки не поймут». Как будто все наши бабушки, прожив шие и пережившие XX век, сплошь одни дуры!) Все понятно, всем комфортно, но можно ли назвать это религиозным искусством? Раскрывает ли хоть немного вся эта «лепота» Предание Церкви, Священное Писание? Ведь это всё не просто «картинки из Библии»…
Наблюдая картину церковного возрождения еще с 1980-х годов, А. Н. Овчинников всегда говорил, что главный недостаток современного художника — это невежество. В самом прямом значении этого слова. Незнание истории, равнодушие к музыке, поэзии, отрицание европейской живописи (вспомним, как модно было в церковной среде 90-х всё это считать вредным для «духовной» жизни, да и сейчас наши православные институты недалеко ушли). Особенно губительным стало отрицание живописи новейшей, ХХ века (состоящей из одних грешников, конечно). Все эти Матиссы-Пикассо якобы ничему хорошему научить не могут. Поэтому насмотренность нашего православного иконописца ничтожна, ограничена горсткой избранных иконописцев древних эпох, изучаемых по плохим репродукциям. Чему-то свежему, живому пробиться сквозь эти «шоры» невозможно. Это невежество, ограниченность привели к тому, что даже талантливые и самобытные художники, начав писать иконы, весь свой талант и самобытность утрачивали, повинуясь общепринятому разделению «церковно-нецерковно». Всем известна эта тема, я в нее погружаться не хочу. Тоска берет. Очень уж много ярких людей загнали под один аршин.
В результате мы получили в наших храмах «продукт», схожий с продуктами супермаркета: сияющие разноцветные яблоки, не имеющие ни вкуса, ни запаха (и главное — витаминов), пустое порошковое молоко… Есть можно, пользы никакой. Вроде бы не голоден… Вот и искусство, даже религиозное, тоже может быть без витаминов, без жизни.
Но где взять эту жизнь? Почему она очевидна на самой крохотной иконке XVI века и отсутствует в наших многоярусных иконостасах? Ведь формально мы всё делаем правильно.
Проведем параллель. В мире музыки тоже есть понятие подлинности и подделки. Одна и та же соната Бетховена звучит поразительно (и всегда по-разному) у больших музыкантов и может оставить вас равнодушным, если играет грамотный, но лишенный дарования пианист. Играет он правильно, не придерешься, а слушать неинтересно. Иногда даже неполезно.
Вы возразите: «Талант же не всем дается, человек не виноват…» Это так. Но именно здесь и кроется суть нашего разговора. Главным признаком таланта является та полнота траты душевных и телесных сил, которая так очевидна при музыкальном исполнении, почему я и провел эту параллель. Большой музыкант «растворяется» в музыке, в инструменте, он трудится, он тратится! Этим напором, этой тратой себя он переходит, перелетает от простого прочтения нот к Великому, «сплавляя» в себе и эту сонату, и инстру мент, и всю свою жизнь.
В изобразительном искусстве этот процесс затянут, иногда на годы, но сердцевина его в том же: именно в силе эмоциональных затрат художника. Иначе талант, каким бы он ни был, не прозвучит, не раскроется. «Когда работаешь, нужно тратиться!» — говорил своим ученикам Валентин Серов. И тратиться всем существом.
Поэтому хорошая школа — это не только грамотное рисование и цветастая живопись, это умение «разжечь» огонь на полотне. «Пока вода не закипит» (Р. Фальк). Разжигание этого огня требует огромной самоотдачи, но именно этот огонь делает произведение великим и бесценным, вечным и питательным, а всё остальное только «кухня», подспорье… А мы, начав «возрождение» церковного искусства, главный упор сделали на «духовность» и «каноничность». Что это такое, и по сей день никто толком не знает, одни разговоры. Но в результате каноничность стала не сводом хороших правил, не учебой у старых мастеров, а превратилась в «закон пустоты», в безэмоциональность изображения. Получилась некоторая узаконенная стерилизация. Бич, которым лупят по всему живому. Но канон — это просто язык. Инструмент. А играть-то нужно живому человеку. И опять повторюсь: абсолютно правильное повторение партитуры, прориси, колорита — искусства подлинного не сотворяет.
Мы говорим, что икона и фреска — это тоже проповедь. Очень точно. Но проповедь зажжет сердца слушателей, если проповедник сам горит ею! Иначе не сработает. Это закон! Горение — это свидетельство того, что ты послан учить людей, писать музыку, создавать храмы. Иначе не надо и браться. Ровное, гладкое, мягкое, сладкое — еще много синонимов равнодушия — покажут, что огня этого нет. Именно поэтому перед нами халтура, пустышка.
Вот композиция на стене — «Сошествие во ад». Грандиозное, эпохальное событие! Посмотрите древние изображения. Как это найдено, какие лики, композиция. Зритель — уже не просто зритель, а соучастник происходящего. Иногда просто страшно становится, и так и должно быть. А здесь? Стоят вялые равнодушные куколки вокруг такого же Христа и сообщают зрителю единственный «посыл» фрески: ничего этого не было, ты же сам видишь…
Эти припудренные розовощекие Праотцы неужели провели в аду тысячелетия, ожидая Спасителя? Игривые завитки волос царя Давида специально сделаны к «праздничку»? Весь колорит, вернее, его отсутствие, вопиет о подделке на этапе роскрыши. Разве мог быть ТАМ такой ровненький голубенький фон? Эти полированные, вызолоченные Врата Ада неужели так малы и примитивны? Как можно во всё это верить? А вопрос подлинности — это и вопрос веры. Нельзя любить по послушанию и благословению. Нельзя изображать Бога без личного отношения к Нему. Каноны здесь не помогут. Нужно жить этим.
Тема, мною затронутая, огромна: она и про свободу как полноту Откровения («К свободе призваны вы, братия…» — Гал. 5:13), и про несвободу, которая рождается от поверхностно-легкомысленного прочтения древних мастеров, где робкое воспроизведение фресок и мозаик проникнуто не только рабством в буквальном смысле, но, по меткому выражению А. Н. Овчинникова, особой «мстительной» тщательностью, превращающей любую свободу в кандалы и капканы.
Обсуждать всё это крайне необходимо — иначе не выберемся, — и я рад, что появилась возможность такого обсуждения на страницах этого журнала.
В завершение хочется добавить, что вообще культура — явление накопительное. На созревание настоящих плодов уходят годы, века трудов вглубь, не на поверхность. Наша жизнь к этому не расположена, результат нужен немедленно. Зажатые жизненными обстоятельствами, особенно финансовыми, мы были вынуждены разделиться на «штатных оптимистов» и «заштатных пессимистов», как сказал когда-то Владимир Набоков. На тех, кто сделал на имитации культуры бизнес, и тех, кто по разным причинам не участвует в этом. И то, и другое бесплодно, хотя симпатичнее, конечно, заштатные пессимисты: продукции меньше, и она не так агрессивна. Путь к подлинному долгий и трудный. Надо признать: мы его еще не начинали. Но, как известно, выздоровление начинается с правильного диагноза. Начнем и мы с этого…
ХАЛТУРА
В ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ
В ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ
Статья Алексея Трунина для № 1 выпуска альманаха о сакральной архитектуре и искусстве «Слово и Камень»
ПОКРОВКА 7
Табличек было сразу много... Больше чем везде... На серой туше дома они строго блестели издалека... Потом появились новые... И ещё... И ещё.. Строгий прямоугольник легко считался - 20 человек. 20 человек!!! Из одного дома!!!! Семиэтажный конструктив раннего ССР.. Кто эти люди, почему их заселили в этот новый прекрасный дом и через десять лет убили???? ... Долго их так и было 20, потом прямоугольник нарушился, появилось ещё два, двое, ярче других, уже потускневших на ветру.. 22 человека!! 22 семьи поражены в правах, высланы, унижены навсегда!!! Эти жалкие бумажные реабилитации конца 80 х- неужели могли как то утешить доживших???!.... Потом узнал: 57 человек - ВСЕ! Весь дом!!!! Верхушка Красной Армии, для них этот новый дом построен, их торжественно вселили в отдельные квартиры и десяти лет они там не прожили... Взлетев в Гражданской войне, эти командиры были далеко не святые, но все равно это люди, их судьба, как почти всех в то лютое время не от них зависела... И семьи.. 57 семей... Ни приличного города, ни образования, ни профессии... Навсегда!!! И памяти о них тоже.... Только эти жалкие таблички через 90 лет после смерти.. Да и то не для всех! Только тем, чьих родственников нашли и они не против такой памяти!!! Их долго было 22 ... Дом красили, чинили, он уже старый дом, но таблички висели, лишь те последние двое тоже потускнели... И вдруг исчезли!!! Сначала их закрасили под цвет дома и надписи уже не читались, а потом и вовсе выдрали! Одни дырки от гвоздей торчат.... Оказалось, что не всех расстреляли! Один кто то избежал участи- стукач? приставлен следить за остальными?? - но вот уцелел, и теперь сын - внук его так просто и незамысловато присоединился к тем бесстрашным ребятам, которые ночами приехали забрать очередного полководца.... И никакого, ну совершенно никакого вывода из этой истории я не могу сделать..
ПОКРОВКА 27